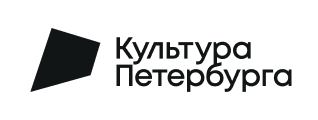Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона показал премьеру на музыку Бруха.
Сочинения этого композитора в России редко исполняются и еще реже используются для балетных постановок. Что на самом деле странно, ибо взволнованные опусы с четким ритмом как будто предназначены для ног. И настроение в них типично балетное, романтическое.
Впрочем, это не очень интересовало хореографа Игоря Булыцына. В бессюжетном балете «Брух. Сюита» ему важнее почувствовать тот самый ритм и быстрый темп и — через неоклассику — поискать незаезженные танцевальные комбинации, дополненные небольшими дозами неклассической пластики: колебание тел в стороны от вертикали, неканонические взмахи рук, наклоны головы.
Автору важно и сочетать то, что на первый взгляд, мало сочетается: фрагменты «Сюиты для оркестра на русские народные мелодии» и сюиты «Шведские танцы». Эта музыкальная встреча «встык» (к сожалению, только в фонограмме, ибо Балет имени Якобсона не настолько богат, чтобы позволить себе оркестр) принесла любопытный танцевальный результат, хотя «фольклором» постановщик мало увлекается. Так, слегка.
И с точки зрения актерства «Брух. Сюита» — «кофе без кофеина»: труппа по воле хореографа почти избавлена от необходимости во что-то играть. Ей просто следует слушать музыку и двигаться, причем танец у каждого из солистов может быть свой.
С ракурса же сложности — это крепкий кофе. Булыцын ставит «густо», чуть ли не по движению на каждый такт, мешая крупные и мелкие па, и труппа справляется с этим достойно. В Балете Якобсона все работают очень честно, доделывая классику до каноничности и не позволяя себе технической расхлябанности.
Публика же будет оценивать музыкальность подхода и придумывать интерпретации, если кто захочет. У меня, например, было ощущение, что в каждом мужском персонаже было что-то от принца и что-то от шута. А в женских – что-то от Жар-птицы и что-то от гимнастки.
При этом авторские касания какого-то внешнего сюжета легки, а костюмы и вовсе лаконичны: серые трико-унисекс с желтой полосой на груди. По заднику медленно плывет вверх-вниз диодная полоска. Она тоже танцует.
После новейшей премьеры показали недавнюю, балет Вячеслава Самодурова «598 тактов». Ровно столько тактов в Концерте Карла Филиппа Эммануила Баха: им вдохновлены сплошная скорость и одновременно асимметричная игривость. Если продолжить аналогию с напитком, то тут кофе двойной крепости: терпкость танца равна его броской энергии, а настрой на «секси» уходит в декоративное телесное утомление.
Объятия чередуются с двойным револьтадом, опасные связи – со светским этикетом. В воздухе витают любовные флюиды, в ногах — «стальные» плетения. Одно рождает другое. Забавно, как персонажи деловиты в своей беззастенчивости. На лицах нет улыбок, и флирт показан не как радость, но как машинальная социальная обязанность.
Но все равно вспоминаются комедии Мариво и «Фортуна» Марины Цветаевой. Вообще-то спектакль самодостаточен и без литературных ассоциаций, но с ними он смотрится богаче. А кто не хочет литературы, может, конечно, вспомнить балет Прельжокажа «Парк» или моцартовского Килиана. Есть сходные эмоции.
Жеманно-брутальные флирты героев ( условных сущностей, почти знаков), на которых, кроме «тела»-трико, ничего нет, состоят не только из танца, но и из быта: артисты садятся и встают, по-разному смотрят друг на друга, касаются другого пальцами, раскланиваются…
Картинки галантной динамики обрамлены группой медленных пудреных лакеев в черном, выносящих на сцену то стулья, на которых флиртующие пьют воображаемый кофе, то подсвечники, то вазы. В действие слуги не вмешиваются, только снабжают реквизитом, но в финале окружают героев. И кто знает, что с ними внутри этого порочного круга случится. Так пародия на нравы барокко и (или) рококо оборачивается напоминанием о беспечных сливках французского общества, доживших до гильотины.
С точки зрения внимания к телесности решение завершить вечер легендарным циклом Леонида Якобсона «Роден» совершенно правильное, ибо это другая грань того же подхода. Хореограф сделал «оживление» известных скульптур, когда начало и финал скопированы с мраморов, а танец есть попытка вообразить, как могли бы танцевать герои «Вечной весны», «Поцелуя», «Вечного идола», «Паоло и Франчески» или «Минотавра и нимфы» — если они вырвутся из каменного массива.
Музыка Дебюсси, Прокофьева и Берга дает возможность фантазировать. Фигуры в белых «мраморных» трико двигаются в ракурсах, которые стоит смотреть со всех сторон, как и роденовские скульптуры. Царят «перетекающие» линии и такие же позы, поиск потенциальной динамики в изначальной статике.
И факт, что за десятилетия с момента создания эти миниатюры совсем не устарели, наоборот: в их достаточно откровенном (а по советским меркам — скандально откровенном) эротизме нащупывается баланс между природным желанием и человеческой любовью. То есть поиск идеала.