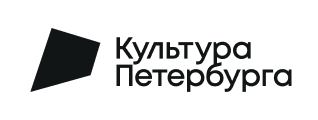Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона представил на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова первую и единственную премьеру сезона – балет «Брух. Сюита» на музыку Макса Бруха в постановке Игоря Булыцына.
«Брух. Сюита» — двадцатиминутный спектакль, объединенный в триптих с балетом Вячеслава Самодурова «598 тактов» и балетом «Роден», сложенным из семи миниатюр в хореографии основателя театра, знаменитого хореографа Леонида Якобсона.
За последние сезоны Театр имени Якобсона стал настоящим ньюсмейкером, выпускающим в год как минимум одну новую работу приглашенного хореографа. Также театр «пересобирает» тематические программы из балетов Якобсона. К этой серии относится вечер «Блестящий дивертисмент», который только что показывали на исторической сцене Большого театра в рамках гастрольного тура. Две предыдущие премьеры — «Озорные частушки» на музыку Щедрина и «598 тактов» на музыку К.Ф.Э. Баха — поставил для труппы Вячеслав Самодуров.
В этом году на постановку позвали солиста Урал Балета Игоря Булыцына, но выпуск премьеры задержался — в силу разных обстоятельств ее перенесли на самый конец июля, и таким образом новая «Брух. Сюита» стала завершающим событием всего балетного сезона 2024/2025.
Булыцын, будучи выпускником Челябинского института культуры, где учились и продолжают получать образование многие российские хореографы и режиссеры, включая Ольгу Пону, Евгения Кулагина, Кирилла Вытоптова и других, начал представлять свои работы на мастерских хореографии больше десяти лет назад, и в них больше всего поражала приверженность автора чистой академической классике и любовь к идеальной форме, хотя самому артисту в силу его данных доставались в театре роли совсем другого амплуа. Миниатюры Булыцына в целом были ориентированы на неоклассику и в частности на Баланчина, и он часто использовал музыку, невостребованную балетным театром: Респиги, Скарлатти, Сальери, Россини. Музыку для своей последней премьеры он собрал из двух малоизвестных сочинений Макса Бруха — «Сюиты для оркестра на русские народные мелодии» и сюиты «Шведские танцы».
Живопись танца
Слово «сюита» уже попадало прежде в название балета — у Джерома Роббинса оно составляло пару к слову «танцы» (балет «Сюита танцев» был поставлен американским хореографом для Михаила Барышникова в 1994). И если в опусах хореографов прошлого слово «сюита» прямо указывало на старинную последовательность танцевальных форм, таких как сарабанда, чакона, куранта, жига, то в работах сегодняшних творцов историческая память перечеркивается в пользу концептуальности самого названия. Так, Булыцын собирает свою сюиту из чувственных и очень пафосных музыкальных моментов сюит Бруха. А настроение этих пьес как будто регулирует желтый задник с подвижной светящейся белой полосой.
За аскетичную сценографию и костюмы отвечала московская художница Альона Пикалова, работами которой Булыцын вдохновлялся в Екатеринбурге. Она оформляла и балет Максима Петрова «Павильон Армиды», где фантазировала на тему «цветовых полей» Марка Ротко. Известно, что Ротко использовал стиль абстрактной живописи «цветового поля» для выражения сильных эмоций и создания у зрителя созерцания и погружения в цвет. Балет Булыцына погружает в желтый цвет, и слово “сюита” в его названии скорее относится не к танцам, а к живописи.
Цветовое исследование и победа вертикали
Балет представляет собой череду коротких танцевальных эпизодов, соответствующих выбранным музыкальным фрагментам. Хореограф создает композиции для одного, двух, трех, четырех, и в финале — для семи танцовщиков, в центре — долгий дуэт, построенный не на отношениях между двумя солистами, а на тщательной прорисовке трудных фигур.
Дуэт начинается с остановки — меркнет свет, желтый цвет «грязнеет» в сумерках, пара замирает в изысканной позе, музыка звучит при этом торжественно и эмоционально. Хореограф ведет явный диалог с Якобсоном, который воспел в танце великие мраморы Родена, но если тот оживлял скульптуры, передавал танцами чувства и прихотливый характер запечатленных персонажей, то Булыцын, наоборот, стремится стереть у танцующих все эмоции, уподобляя их статуям. Ему нравится конструировать движения, устремленные вверх — руки артистов часто подняты, словно они тянутся к солнцу. Вертикальные линии, созданные из тел танцовщиков, торжествуют надо всем горизонтальным, в том числе морально «побеждают» горизонтальные полоски, вшитые в серые обтягивающие комбинезоны в районе груди.
Количество артистов на сцене регулируется количеством звучащих инструментов, если они звучат вместе — артисты делают свои движения синхронно. В спектакле заняты три танцовщика и четыре танцовщицы, но хореографа, похоже, пол артиста в его цветовом исследовании не интересует — всем предпослано соревноваться в выносливости и не отвлекаться на чувства. Артистам, особенно после виртуозных вариаций, поддержанных аплодисментами, хочется отреагировать улыбкой, но строгая эстетика нового балета такое не приветствует.
Три поколения мастеров
Спектакль гармонично вписался в придуманный худруком театра Адрианом Фадеевым триптих, посвященный разного рода телесности и собственно пластике. В балете Самодурова персонажи, одетые в едва различимые купальники телесного цвета, ведут себя так, словно они «прилично» одеты, и под видом чинного чаепития устраивают тайные свидания практическими нагими. Якобсон выпускает духов скульптурных композиций из мраморной оболочки, чтобы они сами рассказали телом свою историю. Балет Булыцына, которым вечер открывался, посвящен пластике как искусству ваяния. Он задает артистам такие движения, которые кроме как лапидарные и не назовешь. Лапидарное, то есть “относящееся к камню” в переводе с латинского языка, не значит грубое, но значит монументальное, основательное.
Театр имени Леонида Якобсона, созданный в 1966, в следующем сезоне будет отмечать свое шестидесятилетие. Выпуская премьеры, подобные этой, театр остается верен заветам своего отца-основателя. А он стремился к тому, чтобы у театра был свой собственный неповторимый репертуар.
Игорь Булыцын родился в 1987 году. Образование получил в Башкирском хореографическом колледже имени Р. Нуреева и Челябинском государственном институте культуры. С 2009 — солист Екатеринбургского театра оперы и балета, в его репертуаре ведущие партии в балетах наследия и современных постановках. В 2017 за исполнение партии Меркуцио в балете В. Самодурова «Ромео и Джульетта» получил премию «Золотая маска». С 2012 начал пробовать себя в качестве хореографа — неоднократно принимал участие в проекте «Dance-платформа», фестивалях «Context. Диана Вишнева» и «НА ГРАНИ». Поставил номера «Соната Скарлатти», «Экспонат», «Дуэт», «Номера фурий», «Трио», «Секвенция», спектакли «Астматический этюд» и «Точное механическое движение». В 2018 году поставил на сцене театра Урал Опера одноактный балет «Увертюра» на музыку Антонио Сальери, в 2023 — «Танцеметрию» на музыку Сергея Гилева, в 2024 балет «Птицы» на музыку О. Респиги. Все три спектакля сохраняются в репертуаре этого театра.
Екатерина Беляева
Ссылка на оригинал