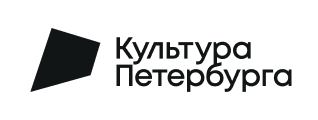«Свадебный кортеж» — любимое и многострадальное детище хореографа. Его путь на сцену оказался долгим и трудным. Одиннадцатиминутный номер, который сам хореограф определял как маленький одноактный балет, был поставлен в 1970 году. Поставлен быстро, за неделю, буквально на одном дыхании. На одном дыхании рождался и новый театр — «Хореографические миниатюры». Готовилась концертная программа из четырех отделений. В последнем планировалось показать и «Свадебный кортеж». Но премьера не состоялась. Спектаклю не удалось пройти последний из официальных просмотров. Якобсон в 1973 году с горечью писал Л.И.Брежневу (было в его защитных действиях и такое!): «За день до открытия театра в июне 1971 года нам запретили показывать ряд произведений, ранее просмотренных и утвержденных всеми инстанциями. В частности, была запрещена миниатюра на музыку Лауреата Ленинской премии Дмитрия Шостаковича „Свадебный кортеж“, повествующая о трагической судьбе бедняка в царской России».
Сцена из спектакля. Фото из архива театра
Неравная борьба за «Свадебный кортеж» длилась почти четыре года. Многочисленные показы по-прежнему не достигали цели, но сделали свое доброе дело. Благодаря им спектакль сохранился «в ногах» у артистов, и, когда настал-таки день премьеры, все было давно готово к показу.
«Зеленый свет» зажегся на пути «Свадебного кортежа» лишь со сменой министра культуры СССР — после Фурцевой им стал Демичев. «Это несколько облегчило положение Леонида Вениаминовича, — писала вдова Якобсона, Ирина Давыдовна, — Демичев пригласил Л.В. в Москву… и предложил привезти на гастроли весь репертуар театра. Окрыленный разговором с министром, Л.В. вернулся в Ленинград и… объявил, что завтра он показывает „Свадебный кортеж“. Ни у кого не спросив разрешения и не объявив заранее в афишах… Когда мы с Л.В. подъехали к Консерватории, где должен был состоятся спектакль, нас уже ожидали и директор Ленконцерта, и партийный босс, и художественный руководитель… стали уговаривать не показывать „Свадебный кортеж“ хотя бы на этом спектакле. Садовников, директор Ленконцерта, клятвенно заверил меня, что он уже назавтра созывает художественный совет и добьется разрешения на показ „Свадебного кортежа“. Видимо, они понимали, что терпение Л.В. истощилось, а ощущение страшной болезни уничтожило в нем последние остатки осторожности… Официальное разрешение они поспешили доставить нам как можно скорее».
Таким образом, на страницах энциклопедических изданий появилась дата премьеры — 21 июня 1975 года.
Решенная на еврейском материале тема «Свадебного кортежа» — неравный брак — часто становилась предметом искусства. Первое, что вспоминается, знаменитая картина «Неравный брак» В.В.Пукирева. Но и в еврейской литературе можно найти примеры подобных историй. От поэтической «Песни песней» Шолом-Алейхема, где героиня, «прекрасней самой библейской Суламифи», была обречена на жизнь с нелюбимым, но богатым, до «Одесских рассказов» Бабеля.
Во многом помогла созданию спектакля и музыка Шостаковича в обработке Тимура Когана. Она не была написана специально для Якобсона. Это Трио ми минор композитор посвятил памяти Ивана Соллертинского. Музыка, основанная на еврейских мотивах, охватывает широкий диапазон настроений, сквозь нее словно пропущен трагический ток.
Но основным импульсом к появлению спектакля послужило творчество Марка Шагала. Отвергнув еврейскую традицию, запрещавшую любое изображение человека, художник показал миру жителей витебской еврейской общины. На его картинах они торговали селедкой, взявшись за руки, непринужденно летали над городом и, конечно же, женились.
Образ еврейской свадьбы приносил художнику удачу. Вспоминая о своей творческой юности, Шагал писал: «Винавер был первым, кто купил у меня две картины. Ему… понравились бедные евреи, толпой идущие из верхнего угла моей картины за женихом, невестой и музыкантами». Уехав во Францию, Шагал пишет серию картин-воспоминаний о родном Витебске. Одна из первых — «Свадьба». Процессию возглавляют трое музыкантов и бадхан — профессиональный свадебный увеселитель. Торговка в желтом предлагает им зайти в лавку. За музыкантами следуют жених с невестой, дальше — группа гостей. В левой стороне картины стоит водонос, встреча с которым обещает большое счастье.
Шагал не обошел тему еврейской свадьбы и выполняя в 1920-е годы заказ московского Еврейского Камерного театра. Расписывая стены и потолок зрительного зала, а также занавес, художник создал девять монументальных картин. Среди них — узкий фриз «Свадебный стол» и четыре панно, символизирующие собой четыре вида искусства. На панно «Музыка» был изображен клезмер — скрипач, идущий впереди свадебной процессии, «Танец» представляла сваха, «Театр» — еврейский тамада — бадхан. «Литература» являлась в виде переписчика Торы.
Но Якобсон не был бы Якобсоном, если бы, восприняв художественный импульс Шагала, не преобразил его по-своему. Веселые витебские свадьбы превратились в душераздирающую процессию, путь которой омыт слезами неудачливого жениха.
Композиционное решение спектакля было простым и гениальным. Кортеж двигался по сцене «змейкой», которая начиналась на авансцене и, закрутив несколько петель, уходила в заднюю кулису. Персонажи «Свадебного кортежа» пытались вырваться из петель змейки, но каждый раз оказывались втянутыми обратно. Так рождался образ Пути — без начала и конца. Зритель не знал, откуда пришел кортеж и куда он идет. Он видел лишь фрагмент вечно текущей ленты жизни. Рисунок «змейки» издавна служил у хореографов символом бесконечной дороги, вспомним хотя бы выход «Теней» в «Баядерке». Но кроме этого, длинный извивающийся ряд является и символом пышного застолья.
Хореограф представляет зрителю каждого героя в отдельности. Первой появляется на авансцене Подружка невесты. Ее мягкие, постоянно двигающиеся руки поют, сплетничают, предрекают будущего ребеночка. Подружка рада событию и, прощебетав новость, исчезает в противоположной кулисе. Ей вослед шествует почтенный Ребе. Его выход торжествен и полон пафоса. Припрыжки с воздетой в небеса рукой взывают к вечности. Улетая в мощном прыжке, Ребе призывает кару на головы всех грешников. Появляются музыканты. Дарить радость людям — их профессия. Здесь герои Якобсона точь-в-точь повторяют героев «Свадьбы» Шагала. Трое музыкантов играют не переставая. Музыкальные инструменты лишь подразумеваются, актеры имитируют игру на них пластически. Музыканты, постоянно меняясь друг с другом местами и как будто плетя замысловатую мелодию, движутся вслед за Подружкой и Ребе. Богатые родители — властители этой жизни. Отец уверенно топчет ногами землю, мать чинно следует за ним. Показав напоследок, кто в доме хозяин, и скрутив женушку в бараний рог, богач со своей половиной покидают сцену.
Первая петля кортежа пройдена. Появление следующих героев, Бедных родителей, рвет цепочку радостного свадебного хода. Ощущению конфликта помогает и музыка, в которой усиливается драматизм. Согнутые фигуры несчастных стариков, их молящие жесты, наконец, уход, когда отец уносит на закорках обессилевшую мать, обнажают драматическую подоплеку действия.
Появляются Богатый Жених с Невестой. Их чинный шаг неожиданно прерывается всплеском отчаяния Невесты — бьющие воздух кулачки, безнадежно «вскрикивающие» ноги, ускользающие позировки — все в ней протестует против жениха, любострастно припадающего к ее руке.
Дуэт невесты и бедного жениха. Фото из архива театра
В выходе нового героя трагедия не прикрыта — вывернутые наружу кисти, повернутая набок, по-птичьи голова, тело, то пытающееся распрямиться в мольбе, то завязывающееся в тугой узел. Это Бедный жених, чей удел — любить и быть любимым, но никогда не обрести счастья в союзе с Невестой. Якобсон отдает этому выходу самую нервную, самую безысходно-трагическую музыкальную тему.
С появлением Бедного жениха свадебный кортеж останавливается. Здесь Якобсон применяет прием, который в кинематографе называют крупным планом. Он словно приближает к зрителю Невесту и Бедного жениха и сплетает их в дуэте, пока все остальные персонажи, словно лишенные права голоса, безмолвствуют за «рамками кадра».
Дуэт, построенный на игре рук, легких прикосновениях, подобных игре в ладушки, заставляет вспомнить еще один номер Якобсона с еврейской стилистикой — «Влюбленные». Только там ничто не омрачало счастья. Парень с девушкой, выписав в движениях признания в любви, уносились за кулисы, полные светлых предчувствий. Здесь же влюбленные оказывались ввергнуты в пучину горя и несчастья — прячущуюся под рукой Бедного жениха Невесту действительность бесцеремонно вырывает из уютной «норки»….
В дальнейшем хореографическом развитии номера удерживается его кинематографический принцип. То оживляя, то опять заставляя застывать своих персонажей, Якобсон сочиняет для них маленькие диалоги, трио, монологи. Вот Богатая мамаша «утирает нос» Бедному жениху, бросая сынка в объятия невесты. Вот Бедные родители сочувствуют дочери, но ничего не могут поделать. Вот Подружка успокаивает товарку. Растерявшиеся музыканты невпопад подыгрывают происходящему. Иногда все персонажи бросают реплики одновременно, и рождается атмосфера еврейского «калгана». Кульминацией является сценка, когда влюбленные просят родителей отказаться от обещанного и оплаченного брака. Умоляющие жесты пресекаются движением рук — жестким, рубленым. Танец разозлившегося Богатого папаши — это залихватская пляска хозяина жизни, который в бешенстве оттого, что кто-то посмел ему мешать.
Но ничто не может изменить ход событий, и грозный Ребе завершает свадебный обряд. Якобсон, однако, вместе с героями восставая против этой предрешенности, не находит в себе сил их разлучить: двое влюбленных неудержимо бросаются друг к другу. Прощальный дуэт — сильнейший миг спектакля. Жесты и движения отрывочны, словно в бреду. Влюбленные не могут разъединиться. Бедный жених то качает любимую на руках, то возносит над собой, а она ловко выскальзывает, чтобы опять и опять обвить его тело…
Кортеж скрывается. Исчезают один за другим герои. Последней уходит отчаявшаяся Невеста, за которой, протянув жадные руки, припрыгивает Богатый жених.
«Вечный идол» («Роден»). Фото из архива театра
Бедный жених — один. Прыжок его вытянутого в струнку тела — это вопль о несостоявшемся. Постоянно согнутая, как будто ожидающая удара фигурка вдруг распрямляется. Но постепенно тело танцовщика опять сворачивается, и вот уже Бедный жених согласно кивает, собирает в ладошку маленькие горькие слезинки и медленно угасает в своем смирении, исчезает в поглощающей сцену тьме.
Что же стало с Невестой? Один из героев Шолом-Алейхема, тоже несостоявшийся жених, так ответил на этот вопрос: «Что стало с Суламифью моего романа?.. Каков эпилог? Каков конец?
Не принуждайте меня рассказывать конец моего романа. …Легче и куда приятнее снова рассказать вам эту историю с самого начала. Еще, и еще раз, и еще хоть сто раз. И теми же словами, что и раньше…»
Ссылка на оригинал